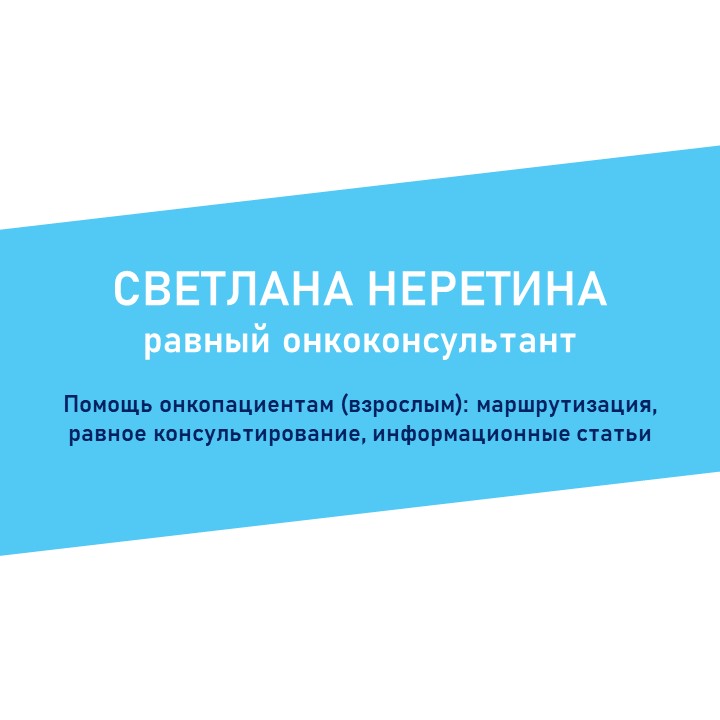Научный взгляд на лейкоз: диагностика, лечение и новые перспективы.
01.11.2025 Прогресс последнего десятилетия радикально изменил понимание биологии лейкозов и принципов их терапии. Варианты лечения выходят далеко за рамки классической химиотерапии, включают таргетную терапию и методы иммунотерапии. Для каждого варианта лейкоза подбираются специфические методы терапии и индивидуальные схемы лекарственных препаратов.За последнее десятилетие медицина сделала огромный скачок вперед в понимании природы лейкозов и разработке инновационных методов их лечения. Прогресс затронул не только традиционные подходы вроде химиотерапии, но и внедрение таргетной терапии и современных методов иммунотерапии. Сегодня мы беседуем с Сергеем Вячеславовичем Семочкиным – доктором медицинских наук, заведующим группой высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена – Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, профессором кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии Института материнства и детства ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. Мы обсудим ключевые моменты диагностики и лечения лейкозов, разберемся, каким образом новые технологии меняют подходы к терапии и улучшают качество жизни пациентов.

– Сергей Вячеславович, расскажите, пожалуйста, какие самые важные изменения и нововведения появились в диагностике и лечении лейкоза.
– Ключевыми методами лечения большинства форм лейкозов у взрослых являются химиотерапия, лучевая терапия и трансплантация костного мозга. За последние два десятилетия в стандартную терапию некоторых вариантов лейкозов была включена так называемая таргетная терапия. В основе любого лейкоза (синоним – лейкемия) лежит опухолевая трансформация незрелых клеток костного мозга. В зависимости от того, какие именно клетки подвергаются злокачественному превращению, развивается тот или иной тип заболевания. Всегда при лейкозе поражается костный мозг: количество незрелых опухолевых кроветворных клеток постепенно возрастает, что нарушает нормальное кроветворение и приводит к дефициту зрелых клеток крови. Отсюда возникают анемия, лейкопения и тромбоцитопения.
Все современные методы лечения лейкозов направлены на разные компоненты опухолевых клеток, в том числе на белки, контролирующие их рост, деление и распространение по организму. Для каждого варианта лейкоза подбираются специфические методы терапии и индивидуальные схемы лекарственных препаратов.
При некоторых формах лейкоза достигнут значительный прогресс в лечении, тогда как при других результаты остаются неудовлетворительными.
Еще один важный аспект – особенности течения лейкозов в старших возрастных группах. С учетом старения населения во всем мире возрастает потребность в более эффективных и менее токсичных методах терапии по сравнению со стандартной химиотерапией.
– Какие особенности клинической картины и терапевтической тактики определяют разницу в подходе к лечению острых и хронических лейкозов?
– Уместно пояснить читателям, в чем заключается разница между острыми и хроническими лейкозами. Острые лейкозы развиваются из самых ранних, незрелых клеток крови, которые гематологи условно называют бластными клетками. Хронические лейкозы, напротив, формируются из более зрелых кроветворных клеток. Эта разница в степени зрелости определяет биологические особенности опухолей и влияет на подходы к их лечению. Острые лейкозы характеризуются выраженной клинической картиной, включающей симптомы интоксикации, анемии, увеличение лимфатических узлов и ряд других проявлений. Без лечения заболевание быстро прогрессирует, и пациент может погибнуть в течение нескольких месяцев. Хронические лейкозы часто протекают вяло и не вызывают у пациента выраженных симптомов. Например, хронический лимфолейкоз у некоторых больных может не требовать лечения на протяжении многих лет, поскольку отсутствуют жалобы и признаки прогрессирования заболевания. Опухолевые клетки при острых лейкозах быстро делятся, но при этом хорошо поддаются стандартной химиотерапии. В то же время клетки при хронических лейкозах делятся медленно и часто слабо реагируют на химиопрепараты. Эти особенности определяют различия в подходах к лечению.
– Высокодозная химиотерапия применяется при агрессивных формах рака крови. Объясните, пожалуйста, почему эта методика эффективнее традиционной и кому она показана.
– Высокодозная химиотерапия является важной лечебной опцией при агрессивных опухолях крови, в первую очередь – при острых лейкозах. В этом контексте особого внимания заслуживают два основных типа заболевания: острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) и острый миелоидный лейкоз (ОМЛ).
Острый лимфобластный лейкоз – это злокачественное заболевание кроветворной системы, при котором в костном мозге происходит избыточное образование незрелых клеток лимфоидного ряда, называемых лимфобластами. Это заболевание быстро прогрессирует и требует неотложного лечения. В большинстве случаев для этого заболевания используются протоколы длительного лечения, основанные на ротации химиопрепаратов и повторном их использовании через определенные промежутки времени. Идея заключается в том, что цитостатики действуют только на клетки, которые проходят цикл деления и не оказывают влияния на опухолевые клетки в состоянии покоя. Большая часть опухолевых лимфобластов под действием химиопрепаратов погибает достаточно быстро, но небольшая их часть может выжить. Эти клетки отслеживают в костном мозге с помощью специальной методики, которая называется оценкой минимальной остаточной болезни. Для контроля за ходом заболевания и оценки эффективности терапии гематолог регулярно берет у пациента образцы костного мозга и направляет их на специальное лабораторное исследование. Стандартные протоколы лечения ОЛЛ обычно рассчитаны на общую продолжительность около двух лет.
Для полной элиминации опухолевых клеток, что является необходимым условием биологического излечения, в некоторых случаях требуется проведение высокодозной химиотерапии. Ее цель – уничтожить остаточные злокачественные клетки, сохранившиеся после стандартных курсов лечения. Высокодозная химиотерапия, применяемая при лечении ОЛЛ, сопровождается серьезными побочными эффектами, которые пожилые пациенты часто не в состоянии перенести. В таких случаях альтернативой может служить таргетная терапия, обладающая более избирательным действием и, как правило, меньшей токсичностью. В настоящее время проводятся клинические исследования, направленные на изучение эффективности комбинаций таргетной терапии с химиотерапией либо ее использования в качестве самостоятельного метода лечения.
Совершенно другой подход касается лечения ОЛЛ у подростков и молодых людей в возрасте до 35 лет. Уже в начале 2000-х годов было доказано, что интенсивные протоколы лечения, разработанные для детей с ОЛЛ, также улучшают результаты лечения молодых пациентов. Применение педиатрических протоколов лечения позволило более чем в два раза увеличить безрецидивную продолжительность жизни для данной когорты пациентов по сравнению со взрослыми протоколами.
Острый миелоидный лейкоз – наиболее распространенный вариант острого лейкоза у взрослых. Это заболевание, как правило, протекает агрессивно и сложнее поддается лечению, чем ОЛЛ. С другой стороны, в опухолевых клетках при ОМЛ обнаружен целый спектр генетических изменений, которые запускают трансформацию нормальных клеток крови и обеспечивают неуклонную прогрессию опухоли. Именно через эти изменения генов и соответствующие молекулярные механизмы канцерогенеза на лейкоз можно воздействовать новыми препаратами. В настоящее время идут исследования, которые уже в ближайшем будущем на основании данных геномного секвенирования лейкемических клеток могут помочь врачам выбрать оптимальное лечение (например, химиотерапию, таргетную терапию, трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток или комбинированную терапию) для каждого конкретного пациента с ОМЛ. Впереди эра таргетного лечения.
– Пересадка костного мозга остается одним из основных методов радикального лечения ряда заболеваний крови, в частности лейкозов. Поделитесь критериями отбора пациентов для трансплантации и расскажите, в каких случаях этот метод оправдан.
– В последние годы в лечении опухолей системы крови появилось много новых методов, включая применение таргетных препаратов, моноклональных антител и модифицированных с помощью генной инженерии Т-клеток (CAR-T). Тем не менее, наряду с этими революционными изменениями, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК), или, что по сути одно и то же, трансплантация костного мозга, остается ведущим методом лечения для целого ряда заболеваний. В этом аспекте я буду говорить преимущественно об аллогенной трансплантации, когда пациенту переливают донорские стволовые клетки, т.е. полученные от другого человека, генетически совместимого с пациентом. В этом аспекте ведущим показанием является ОМЛ.
Пациенты с рецидивами острых лейкозов, как ОМЛ, так и ОЛЛ, которые по возрасту и общему состоянию своего здоровья могут перенести данную процедуру, являются кандидатами на аллогенную трансплантацию. Гораздо больше вопросов возникает по поводу отбора тех, кому показана трансплантация при достижении первой полной ремиссии. Исторически алло-ТГСК рекомендовалась пациентам с неблагоприятным прогнозом, определяемым на основании цитогенетических данных. При этом нужно отметить, что в отдельных медицинских учреждениях могут быть свои собственные критерии отбора пациентов для трансплантации. Применительно к ОМЛ существует определенный консенсус относительно показаний к трансплантации. Ориентируются на определение прогностических групп на основании цитогенетических и молекулярных характеристик лейкемических клеток, согласно рекомендациям Европейской сети по изучению лейкемии (European LeukemiaNet, ELN) 2022 г. Выделяют три группы пациентов с ОМЛ – благоприятного, промежуточного и высокого риска. Излечены с помощью только химиотерапии без последующей трансплантации могут быть пациенты с ОМЛ, у которых не выявлено никаких неблагоприятных генетических поломок (группа благоприятного прогноза).
Очень важно понимать, что алло-ТГСК рекомендуется пациентам с острыми лейкозами только в случае достижения полной ремиссии после индукционной химиотерапии. Проведение трансплантации на стадии активного заболевания, т.е. при отсутствии ремиссии, как правило, неэффективно: даже если удается получить кратковременный ответ, в 80% случаев он быстро утрачивается. Статус полной ремиссии подтверждается морфологическим методом. Врач-лаборант исследует под микроскопом пунктат костного мозга, и, если содержание бластных клеток составляет менее 5%, устанавливается морфологическая полная ремиссия. Однако это достаточно приблизительная оценка.
Более точным и чувствительным методом является определение минимальной остаточной болезни (МОБ). Это исследование проводится с использованием иммунологических или молекулярных технологий, которые позволяют обнаружить 1 опухолевую клетку среди 1000, 10 000 или даже 100 000 нормальных клеток в зависимости от применяемой методики.
Пациенты с ОМЛ, у которых после проведения индукционной терапии не удалось достичь полной элиминации МОБ, рассматриваются как кандидаты на аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.
При принятии решения о проведении алло-ТГСК важным фактором является возраст пациента, поскольку эта процедура отличается высокой токсичностью и сопряжена с риском летальных осложнений.
В большинстве клиник считается, что оптимально выполнять трансплантацию пациентам в возрасте до 65–70 лет.
В России возрастной порог, как правило, составляет 60 лет, хотя возможны индивидуальные исключения, учитывающие общее состояние пациента и наличие сопутствующих заболеваний. Для пациентов старшей возрастной группы разработаны специальные, менее токсичные режимы проведения трансплантации. Перед введением стволовых клеток проводится курс высокодозной химиотерапии, известный как кондиционирование. Его целью является уничтожение остаточных опухолевых клеток и подавление иммунной системы пациента для предотвращения отторжения трансплантата.
Оптимальные режимы кондиционирования подбираются индивидуально, с учетом функционального состояния пациента, наличия сопутствующих заболеваний, статуса лейкоза и факторов риска. Ведутся активные исследования, направленные на определение подгрупп пациентов, которым может быть полезно кондиционирование с пониженной интенсивностью (reduced intensity conditioning, RIC), позволяющее снизить токсичность процедуры.
Текущие научные усилия сосредоточены на поиске баланса между снижением риска токсической летальности и сохранением эффективности контроля заболевания. Один из подходов – снижение интенсивности кондиционирования у пациентов, достигших МОБ-негативного статуса к моменту трансплантации. В некоторых случаях в качестве альтернативы химиотерапевтическому кондиционированию применяется тотальное облучение всего тела. Помимо острых лейкозов, показаниями для проведения алло-ТГСК являются миелодиспластический синдром высокого риска и первичный миелофиброз с неблагоприятным прогнозом.
В посттрансплантационный период может назначаться поддерживающая терапия с использованием отдельных таргетных препаратов. Выбор такой терапии зависит от типа заболевания и характера цитогенетических нарушений. Например, при ОЛЛ с транслокацией t(9;22) назначается препарат из группы ингибиторов тирозинкиназ.
– Известно, что современные методики трансплантации требуют тщательной подготовки и последующего наблюдения. Какие профилактические меры позволяют снизить риск серьезных осложнений после процедуры?
– Одним из ключевых факторов, влияющих на успех трансплантации стволовых клеток, является тщательный отбор пациентов. К моменту проведения процедуры пациент должен находиться в удовлетворительном общем состоянии: не иметь активных инфекций, а также серьезных нарушений функции сердца, печени, почек и других жизненно важных органов. Реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) является одним из ключевых факторов, влияющих на уровень смертности и общее физическое состояние пациента после аллогенной трансплантации стволовых клеток. После трансплантации у пациента должно сформироваться полноценное донорское кроветворение. По сути, это новая иммунная система, принадлежащая другому, здоровому человеку, которая функционирует в организме реципиента. Основной терапевтический расчет заключается в том, что донорская иммунная система способна распознать и уничтожить оставшиеся опухолевые клетки пациента. Однако обратной стороной этого эффекта может стать развитие РТПХ – состояния, при котором донорские иммунные клетки атакуют нормальные ткани организма, включая кожу, слизистые оболочки и внутренние органы.
Для профилактики РТПХ разработаны специальные схемы иммуносупрессивной терапии. При трансплантации периферических стволовых клеток крови от неродственного донора стандартными подходами являются применение кроличьего анти-T-лимфоцитарного глобулина или посттрансплантационного циклофосфамида. В случае развития хронической формы РТПХ первой линией терапии, как правило, являются глюкокортикостероиды. При отсутствии эффекта от стероидной терапии применяются препараты второго ряда.
Важно отметить, что процедура аллогенной трансплантации стволовых клеток проводится в специально оборудованных индивидуальных палатах-боксах, оснащенных системой принудительной вентиляции с подачей стерильного воздуха. В этих условиях строго соблюдается комплекс мер по профилактике инфекционных осложнений, включая специализированное питание и обеспечение стерильности всех медицинских манипуляций.
В посттрансплантационный период всем пациентам назначается иммуносупрессивная терапия, направленная на контроль реакции «трансплантат против хозяина». В качестве базовых препаратов могут использоваться такролимус, циклоспорин, а также комбинация циклоспорина с микофенолата мофетилом или другие иммуносупрессанты. Конкретный режим терапии подбирается индивидуально, исходя из типа трансплантата, варианта алло-ТГСК и предполагаемого риска развития отторжения.
На протяжении всего периода лечения необходим постоянный контроль со стороны врача-гематолога, имеющего опыт ведения пациентов после аллогенной трансплантации. У большинства пациентов продолжительность иммуносупрессивной терапии не превышает 6 месяцев, однако в отдельных случаях она может быть более длительной.
– Появление таргетных препаратов значительно улучшило прогнозы выживаемости многих пациентов. Как бы Вы оценили эффективность таргетной терапии в борьбе с различными формами лейкозов?
– Прогресс последнего десятилетия радикально изменил понимание биологии лейкозов и принципов их терапии. Варианты лечения выходят далеко за рамки классической химиотерапии, включают таргетную терапию и методы иммунотерапии. Современные подходы к лечению особенно предпочтительны для пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет и другие хронические состояния. Для этой категории интенсивная химиотерапия может представлять высокий риск.
В то же время для молодых пациентов, стремящихся сохранить баланс между семейной жизнью, профессиональной деятельностью и лечением, менее токсичная, но не менее эффективная терапия также является приоритетным выбором.
Традиционная химиотерапия, несмотря на свою эффективность, воздействует не только на злокачественные, но и на здоровые клетки, что нередко приводит к серьезным побочным эффектам. Особенно у ослабленных пациентов может возникнуть необходимость в длительном пребывании в стационаре для контроля осложнений и поддерживающей терапии. Современные таргетные методы лечения действуют на конкретные молекулярные мишени в лейкемических клетках, что позволяет минимизировать повреждение здоровых тканей и снизить токсическую нагрузку на организм.
Чтобы проиллюстрировать данное направление в терапии опухолей крови я хочу привести несколько примеров.
Ингибиторы тирозинкиназы, такие препараты как иматиниб, дазатиниб, нилотиниб и бозутиниб, произвели настоящую революцию в лечении хронического миелолейкоза (ХМЛ) и ОЛЛ с транслокацией t(9;22) – так называемой филадельфийской хромосомы. ХМЛ – вариант лейкоза, при котором костный мозг вырабатывает избыточное количество белых клеток крови – нейтрофилов, эозинофилов и базофилов. Эти клетки несут филадельфийскую хромосому и являются опухолевыми. Они накапливаются в крови и костном мозге, оставляя с каждым месяцем или годом все меньше места для здоровых лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. ХМЛ обычно прогрессирует медленно. Ингибиторы тирозинкиназы подавляют аномальные белки в лейкемической клетке, поддерживающей их рост и деление. Это препараты для приема внутрь. Они не вызывают иммунодефицита, который присущ большинству препаратов классической химиотерапии. Пациенты могут продолжать работать и сохранять привычный образ жизни без необходимости в частых посещениях лечебных учреждений. С появлением этого класса препаратов для пациентов с ХМЛ практически отпала необходимость в трансплантации костного мозга. Интересно также то, что для пациентов с глубоким ответом на ингибиторы тирозинкиназы уже через два года лечения может обсуждаться полная отмена терапии.
Ингибитор белка BCL2 (венетоклакс) изменил подход к терапии хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) и некоторых вариантов ОМЛ. ХЛЛ – вариант хронических лейкозов, при котором костный мозг вырабатывает избыточное количество лимфоцитов. Это заболевание, в отличие от острых лейкозов, развивается медленно. Сочетание венетоклакса с моноклональными антителами против рецептора CD20 на лейкемических клетках или с ингибиторами тирозинкиназы Брутона приводит к глубоким длительным ремиссиям. Начальное лечение этим препаратом сопряжено с риском развития синдрома острого лизиса опухоли, требующего госпитализации и лабораторного контроля показателей крови. Однако в последующем это амбулаторное лечение, не сопряженное с нарушением привычного образа жизни. Другим классом таргетных препаратов, плотно вошедших в практику лечения ХЛЛ, являются ингибиторы тирозинкиназы Брутона (ибрутиниб, акалабрутиниб и занубрутиниб). Это тоже препараты для приема внутрь, ориентированные на длительное лечение, подобно тому, как лечатся другие неонкологические хронические болезни.
Ингибиторы FLT3 применяются при ОМЛ с мутациями в гене FLT3 в опухолевых бластных клетках в комбинации с другими противоопухолевыми препаратами. Это позволяет увеличить частоту достижения ремиссий. Список таргетных препаратов увеличивается с каждым годом.
– Иммунотерапевтические методы стали важной частью современного подхода к лечению злокачественных новообразований. Что именно изменилось благодаря применению иммунотерапии в практике врача-гематолога?
– Иммунотерапия – это метод лечения, направляющий собственную иммунную систему пациента на борьбу со злокачественной опухолью. Выделяют несколько направлений иммунотерапии.
Исторически первым классом препаратов этой группы были моноклональные антитела. Таких препаратов синтезировано уже достаточно много. Это искусственно сконструированные молекулы, которые могут находить для себя соответствующие рецепторы-мишени на опухолевых клетках, приводя таким образом к активации иммунного ответа и гибели опухолевых клеток. Первое антитело анти-CD20 ритуксимаб кардинально изменило прогноз и подходы к лечению В-клеточных неходжкинских лимфом.
Еще одним направлением является создание биспецифических антител, способных распознавать одновременно рецептор на опухолевой клетке и на Т-лимфоците. Такое антитело связывает между сбой клетку опухоли и Т-лимфоцит, приводя к активации последнего и летальному повреждению опухоли. В частности, такое биспецифическое антитело, как блинатумомаб, показало высокую эффективность у пациентов с ОЛЛ из В-клеток с экспрессией рецептора CD19.
Терапия CAR-T-клетками – это самый новый и прогрессивный вид лечения, при котором собственные иммунные клетки пациента искусственно в условиях лаборатории генетически модифицируются для лечения отдельных видов рака. Суть процедуры заключается в том, что в Т-клетки пациента вводится специальный вирус-носитель, включающий ген, который будет кодировать новый рецептор на этих клетках. Измененные клетки после получения из лаборатории вводятся пациенту через венозный катетер. С помощью этого нового рецептора CAR-Т-клетки смогут распознать опухолевые клетки и их уничтожить. Исторически самыми первыми успешными CAR-T-клетками был препарат для лечения детей и молодых взрослых с ОЛЛ из В-клеток предшественников. В настоящее время в мире накоплен большой практический опыт лечения ОЛЛ из В-клеток, в том числе у пожилых людей. Успехи CAR-Т-клеточной терапии достигнуты также в случае ХЛЛ, неходжкинских лимфом и множественной миеломы. В отношении ОМЛ и ОЛЛ из Т-клеток ведутся соответствующие исследования, но значимого прогресса пока нет.
– Интенсивная полихимиотерапия помогает контролировать болезнь, однако сопровождается рядом побочных эффектов. Какие побочные эффекты встречаются чаще всего и как их минимизировать?– Вне зависимости от вида лечения, будь то таргетные препараты, иммунотерапия или классическая химиотерапия, практически всегда бывают побочные эффекты. В случае лейкозов чаще всего это снижение показателей крови (анемия, лейкопения, тромбоцитопения), инфекции, проявления кровоточивости. У некоторых препаратов могут быть специфические побочные эффекты – например, нарушения ритма сердца. В случае данных проблем врач может изменить схему лечения или снизить дозу таргетного препарата. Для коррекции цитопений применяются трансфузии донорских препаратов крови и факторы роста – эритропоэтины, препараты гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ). В случае возникновения лихорадки в медицинском учреждении возьмут посевы крови и посевы из других локусов для выделения возбудителя инфекции, чтобы подобрать оптимальную антибактериальную или противогрибковую терапию, выполнят компьютерную томографию легких. В случае ХЛЛ важно контролировать в крови уровень иммуноглобулина G, чтобы при необходимости назначить заместительную терапию соответствующим препаратом. Для коррекции тошноты и рвоты также есть соответствующие лекарства, которые, как правило, назначают перед введением препаратов, вызывающих подобные проблемы. Очень важным аспектом лечения онкогематологических заболеваний является профилактика тромбозов.
– Для большинства пациентов трансплантация костного мозга становится началом нового этапа жизни. Но насколько быстро организм восстанавливается после операции и когда можно ожидать полного восстановления?
– Восстановление организма после трансплантации костного мозга – не быстрый процесс, подразумевающий физическую и психологическую реабилитацию. Восстановление занимает от нескольких месяцев до 1–2 лет в зависимости от типа трансплантации. Ключевые аспекты этого процесса включают приживление трансплантата, восстановление иммунной системы и устранение побочных эффектов. На этом этапе потребуется соблюдение диеты и постепенное повышение физической активности. Важно принимать назначенные врачом препараты, регулярно проходить осмотры и следовать всем рекомендациям по предотвращению инфекций.
В большинстве случаев физическое восстановление происходит приблизительно через 3 месяца после трансплантации. Уходит слабость, исчезает тошнота, проходят проблемы со стороны слизистых полости рта и нормализуется стул. Человек постепенно начинает чувствовать себя энергичнее. Для окончательного физического восстановления может потребоваться 1–2 года. Полное восстановление иммунной системы может занять до полутора лет. В течение первого года после алло-ТГСК человек крайне уязвим для инфекций. Период восстановления после аутологичной трансплантации намного короче и составляет от 2 до 4 месяцев.
– Каковы характерные клинические признаки начальных стадий лейкоза и какие ситуации однозначно требуют консультации гематолога?
– Это, наверное, самый сложный вопрос. Уловить острый лейкоз на ранних стадиях затруднительно. Эта болезнь развивается быстро и внезапно. Клиническими проявлениями может быть интоксикация (слабость, лихорадка, избыточная потливость), инфекции (например, ангина), увеличение лимфатических узлов или появление признаков кровоточивости (например, носовые кровотечения или кровоточивость десен). Не случайно участковый врач даже при простудных заболеваниях назначает общий анализ крови. Для острого лейкоза характерны достаточно грубые изменения в анализе крови, которые сразу направят действия врача в нужном направлении.
В отношении хронических лейкозов все несколько проще. Тут нет никакой срочности. Все развивается медленно.
В течение нескольких месяцев и даже лет может ничего не происходить. Делать анализ крови как минимум один раз в год вполне достаточно. Увеличение лимфатических узлов, слабость, дискомфорт в животе – все это может быть значимо. Повторюсь, что обычный анализ крови, который делают в любом медицинском учреждении, в данном случае очень информативен.
– Лечение лейкоза – длительный и сложный процесс, включающий активную фазу терапии и последующий период восстановления. После успешного завершения курсового лечения главная задача пациента – поддержание устойчивого состояния ремиссии и улучшение качества жизни. Сергей Вячеславович, поделитесь, пожалуйста, ключевыми рекомендациями с теми, кто завершил основную программу лечения и теперь хочет чувствовать себя уверенно и спокойно в будущем.
– К сожалению, риск рецидива сохраняется даже после самого успешного лечения, включая трансплантацию. Исключить его полностью нельзя даже спустя 10–15 лет. Однако постоянные размышления об этом не приносят пользы.
Наиболее трудным считается период первых шести месяцев после трансплантации. Это время серьезных перемен: привычный уклад жизни нарушается, многое кажется непривычным и тяжелым. Но это состояние – не навсегда. С течением времени человек постепенно возвращается к нормальной жизни и пережитый опыт отходит на второй план.
Первый год после трансплантации – самый уязвимый период с точки зрения инфекционных осложнений. Очень важно беречь себя: избегать мест скопления людей, соблюдать меры гигиены и следовать рекомендациям врача. Со временем иммунная система начнет восстанавливаться. Уменьшится количество принимаемых препаратов, вернутся силы. Постепенно станет возможным возвращение к работе, учебе и привычной социальной жизни. На ранних этапах особую роль играет поддержка семьи. Стоит заранее подумать о том, как организовать постепенное возвращение к учебе или профессиональной деятельности. В некоторых случаях хорошим решением может стать временная дистанционная работа из дома.
– Сергей Вячеславович, благодарим Вас за столь подробные и ценные ответы!